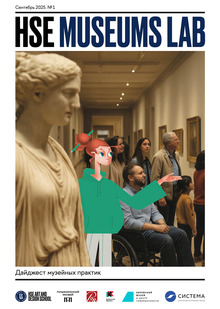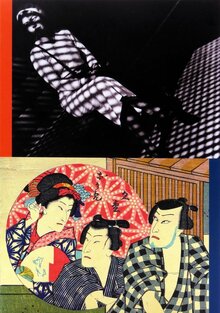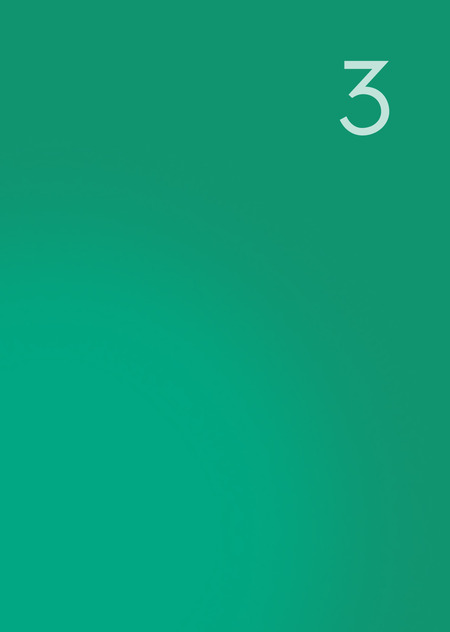
Программы ГЭС-2
Вместе с кураторами Дома культуры «ГЭС-2» мы собрали подборку программ, которые помогают подросткам узнавать себя и других, а заодно открывать мир культуры и искусства — интересно, свободно и с удовольствием.
Экспертная заметка: как появилась программа взаимодействия со школами
Программа взаимодействия со школами появилась в фонде V-A-C еще до открытия Дома культуры «ГЭС-2», в 2018 году. Тогда в шести московских школах стартовали занятия, в которых принимали участие куратор фонда Степан Овчинников и современные художники. Основной задачей этих интервенций в школьную программу была попытка разрушить барьер между школьной программой и феноменами современной культуры: электронной музыкой, видеоиграми, сериалами, современным искусством.
Ближе к открытию здания у школьной программы фонда родилась стратегия взаимодействия со школами уже на базе Дома культуры «ГЭС-2» и собралась команда, состоящая уже из двух кураторов, шести эдьюкейторов и координатора. В основе программы лежит принцип «воронки»: мы взаимодействуем со школами на трех уровнях, первый из которых — приезд класса на одно из наших интерактивных занятий. Следующий этап — день в «ГЭС-2», когда мы совместно с учителем разрабатываем для школьников уникальное образовательное мероприятие, которое отвечает каким-либо образовательным потребностям ребят, которые они не могут решить в школе. И третий этап — долгосрочный проект со школой, который может длиться до полугода.
Наша деятельность во многом выросла из медиации — свободной и диалогичной практики взаимодействия культурной институции со своими посетителями. Однако, для нас диалог — это средство не только провоцировать школьников на свободную интерпретацию, но и для развития навыков и компетенций. Еще мы уделяем внимание связи со школьной программой, и не только с гуманитарным блоком предметов: как-то, что ребенок узнал на уроках математики, физики или географии может помочь ему в понимании феноменов современной культуры?
Несмотря на то, что мы в основном работаем с детьми и подростками, основной наш «агент» в школе — это учитель. От его лояльности зависит, доверит ли он нам образовательный опыт своих учеников. Поэтому мы стараемся поддерживать учительское сообщество вокруг «ГЭС-2» и делаем специальную программу для учителей: методические встречи, ридинг-группы, фестивали и лаборатории. Например, сейчас у нас совместно с проектом «В полный голос» идет хоровая лаборатория для учителей — мы знаем насколько для учителя важен голос и хотим помочь им получить больше свободы в использовании этого инструмента. А летом у нас прошел первый поток курса повышения квалификации по современному искусству совместно с академической программой «ГЭС-2» и Центром педагогического мастерства.
Интерактивные занятия
Интерактивные занятия для школьных групп в «ГЭС-2» посвящены как текущим выставкам, так и самостоятельным темам, связанным с современной культурой и искусством: архитектуре, феномену выставки, саунд-арту. Важно отметить, что это не экскурсии в привычном смысле слова — в основе программы лежит деятельностный подход и внимание к личному опыту ребёнка. Мы также принимаем во внимание возрастные особенности участников, поэтому для каждой темы разрабатываем два сценария — для младших школьников и для средних и старших классов. Эдьюкейтор становится партнёром в исследовании, помогая детям находить собственные смыслы и формулировать личные отношения к увиденному или услышанному. Мы предлагаем участникам не просто знакомиться с произведениями искусства и пространством Дома культуры, а вступать с ними в диалог через наблюдение, игру, движение и обсуждение, где учитывается мнение каждого. Таким образом, занятия становятся пространством свободы высказывания, сотворчества и открытого разговора.
Каждое занятие создаётся как самостоятельная творческая и исследовательская ситуация. Эдьюкейторы совместно с кураторами школьного отдела разрабатывают программы, которые не всегда прямо следуют за основной концепцией выставки. Мы стараемся находить пересечения между искусством и другими областями знаний. Так, например, на занятии, посвященном инсталляции «Небесные артефакты» Франциско Инфанте-Арана и Платона Инфанте, мы пользовались линейками, циркулями, микроскопами, чтобы вписать произведения искусства в привычные геометрические формы, или в «Видимо-невидимо» размышляли о темноте, чёрном цвете и поломках, отталкиваясь от картины Малевича «Чёрный квадрат».
Такая методика отражается и в структуре занятий: обычно они длятся около двух часов и состоят из двух частей — прогулки с теорией и практической частью в классах. Формат предполагает передвижение по точкам, на которых школьники слушают и выполняют небольшие наблюдательные, творческие или двигательные задания. При продумывании плана занятия мы делаем акцента не только на том, что дети видят, но и на том, что они чувствуют, слышат и воображают, поэтому важным принципом является его мультисенсорность. Это помогает обеспечить полное погружение в тему и открыть неожиданные связи между культурой и собственным опытом. Например, можно обратить внимание на занятие «ПроЗвук», где ребята знакомятся с окружающей аудиальной средой ГЭС-2, больше узнают о разнообразных саунд-практиках и создают собственную звуковую карту.
День в «ГЭС-2»
День в «ГЭС-2» — это формат более тесного взаимодействия со школьниками, в рамках которого команда школьной программы вместе с учителем придумывает и проводит специальное мероприятие для конкретного класса. Обычно инициатива исходит от учителя или родителя: они заполняют анкету на сайте и предлагают идею образовательного события. Иногда это может быть не готовая идея, а тема или педагогическая задача, над решением которой учителю хочется поработать совместно с нами.
В прошлом году, например, к нам обратилась представительница родительского комитета 8-го математического класса школы № 91. Ей хотелось помочь подросткам развить навыки публичных выступлений. Тема оказалась широкой, поэтому класс приходил в «ГЭС-2» дважды. В первый день ученики выполняли упражнения для развития навыков самопрезентации и описывали произведения на выставке, примеряя на себя разные роли. Во второй — мы устроили мини-конференцию: школьники подготовили выступления с презентациями на интересующие их темы.
Бывает и так, что с нашей помощью учителям удаётся расширить рамки школьной программы. Так, учительница обществознания из Пироговской школы предложила показать ученикам, как устроена работа культурных институций. Мы пригласили коллег из разных отделов «ГЭС-2» — хранителя, технического продюсера, куратора доступности, юриста и т. д. Все эти специалисты важны для работы Дома культуры, но очень часто их работа остается незаметной для посетителя. Ученики разработали гайд и провели интервью с сотрудниками, а после на основе полученной информации создали сюжет для деловой игры, цель которой — с помощью управленческих решений не допустить закрытия нового музея.
Проекты со школами
Если школа хочет еще больше углубить взаимодействие с нами и расширить образовательные возможности своих учеников, мы предлагаем сделать вместе большой проект. Здесь механика очень похожа на День в «ГЭС-2»: инициатива школы, анкета на сайте и совместное проектирование. Отличие в том, что к долгосрочному проекту мы часто приглашаем художника. Таким образом мы расширяем поле самоопределения школьников: знакомим их с людьми, которые делают актуальное искусство здесь и сейчас.
При планировании стратегии, мы представляли, что удобнее всего будет интегрировать наши проекты в проектную или исследовательскую деятельность школьников. Однако реальность оказалась такова, что школы очень по-разному трактуют ФГОС, и с точки зрения сроков, и с точки зрения критериев оценивания, поэтому этот путь оказался не самым простым. Поэтому, часто мы интегрируемся во внеурочную деятельность и даже в предметы школьной программы.
Один из примеров нашего включения в школьный предмет — проект «Практики визуального сторителлинга» с Лицеем НИУ ВШЭ, который мы проводили на протяжении трех лет. В Лицее на гуманитарном и дизайнерском направлениях есть предмет «История и теория современной культуры», а в нем блок, посвященный массовой культуре. В качестве контрольной работы десятиклассники должны снять короткометражный фильм. В принципе, развитие современных технологий позволяет им сделать это совершенно самостоятельно, но мы предложили углубить связи с индустрией внутри этого задания. На протяжении трех месяцев десятиклассники встречались со сценаристами, операторами, режиссерами монтажа и гафферами, работали со световыми приборами и современной видео-техникой, учились монтировать и озвучивать, а в конце мы провели показ в кинотеатре «ГЭС-2».
Иногда наши проекты происходят почти полностью в школе — такой была писательская лаборатория с драматургами Алиной Журиной и Егором Зайцевым для восьмиклассников Школы Тубельского. Но чаще мы стараемся вписывать наши проекты в институциональный контекст. Например, в 2023 году мы с девятиклассниками школы Летов и художницей Татьяной Лапонкиной, вдохновившись выставкой «Кубок созвучий» и книгами художниц Ольги Розановой и Лизы Неклессы создали зин и организовали открытый воркшоп по печатным практикам.
Проектная деятельность со школой — это еще и отличный способ взаимодействия с региональными школами, которые не могут часто приезжать к нам на интерактивные занятия. Например, в сотрудничестве с фондом «Одинаково разные» весной 2025 года мы организовали несколько творческих лабораторий на каникулах в школе № 2 города Боровск Калужской области. Ребята всех возрастов с 1 по 11 класс снимали ненарративные фильмы, придумывали настольные игры, а еще вместе с уличным художниками Женей O33ic-ом и Максимом Кишкиным расписали наружные стены спортзала.
Лаборатории на каникулах
Программа взаимодействия со школами продолжает работать и на каникулах в формате интенсивных лабораторий. В этом формате мы встречаемся с ребятами каждый будний день и проводим вместе по 5-6 часов. Лаборатории у нас есть двух видов: проектная и исследовательская.
Проектная лаборатория органически связана с еще одним нашим проектом — большим событием, сделанным вместе со школьниками. Ребята собираются на каникулах, создается команда, мы придумываем концепцию и план мероприятия, а потом в течение нескольких месяцев готовим грандиозное событие, на которое могут попасть все желающие. В 2022 году таким событием стала Ролевая игра живого действия «ДК-верс». По сценарию, придуманному подростками 12-15 лет, игрокам предстоит разгадать тайну заражения, охватившего посетителей открытия вернисажа. Ребята вместе с игротехниками Евгением Снытниковым и Артемом Неугодовым написали сюжет, лор персонажей, придумали сайд-квесты, а художница Дарья Макарова помогла им сшить костюмы, создать декорации и фантазийные силиконовые маски персонажей, которых играли, к слову, те же подростки.
Фестиваль имени Д. Фофанова
Фестиваль молодых музыкантов имени Д. Фофанова — это ежегодный фестиваль, который полностью создают подростки 14-17 лет вместе с командой «ГЭС-2». Участники придумывают визуальную концепцию с художником, отбирают заявки на опен-кол, составляют лайнап и следят за его исполнением. Проект реализуется как «взрослый» арт-проект — с полным бюджетом, продакшеном и промо-кампанией. В итоге получается масштабное событие, которое собирает до 2000 зрителей и даёт подросткам реальный опыт организации большого культурного события.
Фестиваль имени Д. Фофанова, 2024
Влада Дмитриева, организатор фестиваля 2023
Были ли в процессе работы какие-то открытия, инсайты с точки зрения подготовки музыкальных мероприятий?
Для меня весь этот фестиваль был сплошным инсайтом, потому что, как я говорила ранее, в моей голове фестивали организовываются только большими дядя и тетями. Но меня поразила инфантильности огромного количества музыкантов, и это не потому что у нас были ребята, которым 13-15 лет. Казалось бы взрослые ребята, были артисты, которые казались мне взрослыми и очень крутыми, но на деле оказывались неорганизованными людьми, которых нужно было очень сильно подгонять, и возникали конфликты. До этого я просто не сталкивалась с таким количеством творческих людей.
Как для тебя прошел процесс подготовки фестиваля?
Для меня это было волнительно, потому что на мне была немалая ответственность, я курировала 4 группы, это было немного тревожно, потому что часто у меня не получалось проявить какую-то жесткость характера, если артисты пропускали дедлайны или что-то такое. Также, я очень много думала про фестиваль, я оставила в нем часть себя.
Дарья Мусатова, организатор фестиваля 2024
Можешь вспомнить конкретные занятия или встречи в рамках обучающего процесса в ГЭС-2?
Самые запоминающиеся встречи для меня всегда связаны с «работой руками». Так, например, перед каждой из участниц стояла задача разработки макета декорации сцены из пенопласта и картона по индивидуальному придуманному проекту. Такая свобода порыва творчества поначалу меня немного напугала. ведь итоговая работа ограничена лишь рамками моего воображения. Но через два часа кропотливой работы от идеи до реализации уже каждая держала в руках свой проект и свое виденье фестиваля. Помню также, как мы все вместе собирали мини парковку, одно из пространств для выступлений, кропотливо собирая каждую колонну из плотного картона, параллельно обсуждая, как грамотно использовать располагаемое нами для фестиваля место.
Насколько необычно было готовить большое музыкальное событие в рамках большой культурной институции? Чувствуешь ли ты разницу по сравнению со школьными мероприятиями?
Тогда я училась в небольшой районной школе, и, конечно, формат мероприятий кардинально отличается от крупной культурной институции. При этом ничего необычного в этом я не видела, ведь уже имела опыт участия в ряде других проектах от школьного отдела «ГЭС-2». Главной разницей между школьными мероприятиями и нашим фестивалем я бы назвала заинтересованность участников в его создании. Ведь часто в школах принуждают участвовать в разного рода концертах, а ученики, в свою очередь. бояться отказать своим преподавателям. Тут же каждый пришел добровольно, имея за собой собственную мотивацию, которая неотъемлема для реализации такого масштабного проекта. Думаю, в нашем фестивале чувствовалось то, с каким трепетом и любовью он был создан.
Ульяна Веровенко, организатор фестиваля 2024
Это твой первый опыт участия в мероприятиях фестивального формата? Какие ожидания от проекта у тебя были: совпали ли они?
Да, это был мой первый фестивальный опыт. Я уже работала с кураторами лаборатории, и поэтому сразу знала, что на этом проекте тоже должно быть интересно и весело. Когда мы начали усиленно работать над ним, я думала, что мы потеряемся в задачах, работая в формате «все, везде и сразу». Каждый участник занимался буквально всем — от разработки концепции до коммуникации с артистами. Моментами было тяжело, я уставала от постоянного брейншторма, но в итоге эта плодотворная работа дала результат, и мы сделали целый фестиваль.
Какой совет ты дала бы тем, кто только учится организовывать подобные музыкальные мероприятия?
Очень круто работать в команде. Совместное обсуждение помогает не зацикливаться на тупиках, быстро решать возникающие проблемы и учитывать все непредвиденные обстоятельства, которые могут произойти. Часто бывает, что ты оказываешься в ступоре, концепция рушится и ничего не получается, но люди рядом могут увидеть неприметное с другой точки зрения и найти настоящее «золото». Это чрезвычайно важно для того, чтобы проект не стоял на месте и в конечном итоге стал чем-то большим, чем таблицами в экселе, презентациями и бесконечными текстами в гугл-доках. Цените людей вокруг, индивидуальность каждого и то, как ваши различия могут дополнять друг друга!
Проект «Красный нос. Клоунада для детей и подростков»
Концепция и философия проекта
Как возникла идея лаборатории?

В 2022 году среди моих знакомых вырос интерес к клоунаде — не как к цирковому искусству, а как к способу работы с телом и с партнером. Мы с коллегой и сокуратором Юлией Апанасенко решили использовать этот инструмент в работе с детьми 7–9 лет и подростками 10–14 лет. Мы предполагали, что младшие смогут через клоунаду расслабиться и снять напряжение школы и давление авторитета, а подростки — преодолеть собственную неловкость и неуклюжесть. Пилотный запуск показал неожиданный результат: младшие дети испытывали трудности с формой, хоть и игровой, но требующей определенной структурности, и их развитие шло медленно. Подростки же продемонстрировали впечатляющий прогресс — всего за 8 занятий разница была очевидна. После этого мы сосредоточились на подростковой клоунаде, что быстро дало качественный результат.
— Полина Зотова, куратор проекта
Вы называете клоунаду не жанром, а навыком для повседневной жизни. Как этот сдвиг меняет само понимание клоуна?

Я тринадцать лет занималась больничной клоунадой, и это тот опыт, который учит не веселить детей, находящихся на лечении, а отвлекать их от их болезни и стен палаты. Создавать новую атмосферу.Наверное, именно в этом и заключается основная разница: такая клоунада становится не яркой и эпатажной, а нежной и человеческой. Потому что ты заходишь в палату к ребёнку, который проходит длительное лечение, — и он может быть в совершенно разном состоянии. Твоя задача — встроиться в это состояние. Часто любые яркие или шумные проявления могут его напугать или разозлить, ведь он сам не может сейчас так проявиться. Именно этот опыт помог мне понять, что клоунада — это не про шум и не про эпатаж. Это про очень человеческие моменты, про контакт с конкретным человеком перед тобой и с партнёром, который рядом.»
— Варвара Иванова, , куратор проекта
Почему клоунада стала инструментом для разговора с подростками о свободе, смелости и уязвимости? Что такое «внутренняя улыбка» и как подростки находят её в себе?

Я сама мама подростка — и это, мне кажется, немаловажно. Я хорошо понимаю, что подростки — это существа с огромной эмоциональной палитрой, которая пока не имеет чётких границ. Они уже не дети, но ещё не взрослые, и часто не знают, как обращаться со своими чувствами. И это безумно интересно. Ведь что такое смелость? Ребёнок ещё не знает, что это. А взрослый уже понимает, но не всегда может быть смелым — потому что есть опыт, шишки, социум, который когда-то обидел. Поэтому именно с подростками важно говорить о свободе, о смелости и об уязвимости. Но не просто говорить — ведь слова для них часто ничего не значат. Работать с этим можно именно через внутреннюю улыбку. Потому что если появляется момент тёплой, доброй улыбки к самому себе — если появляется способность мягко посмеяться над собой, сбросить серьез момента — это сразу отражается на общении с другими. Тогда и социальные взаимодействия становятся проще, и появляется лёгкость быть собой рядом с другими.
— Варвара Иванова, , куратор проекта
Подростки и клоунада как способ самопознания
Что значит для подростка, что клоун «исследует пространство и проверяет его на прочность»? Почему именно подростковый возраст — подходящее время для клоунады?

Именно потому, что в этом возрасте уже есть небольшое познание себя и понимание мира, но при этом многое ещё только формируется. И есть ещё один важный момент: современные подростки — это люди максимально нагруженные. В какой-то момент их детство внезапно заканчивается, и начинается процесс подготовки к ОГЭ, ЕГЭ, олимпиадам, бесконечным кружкам, где нужно обязательно чего-то добиться, заработать значок ГТО и так далее. Это очень резко наступающая взрослая жизнь. И поэтому хочется оставить немного души на той самой «детской площадке», но сделать это осознанно — чтобы эта «детскость» не мешала социализации, а наоборот, давала энергию и продуктивность. И вот эту частичку «детской площадки» мы стараемся сохранить и в работе с подростками, и со взрослыми. Потому что это необходимый элемент — минимум, чтобы не выгорать.
— Варвара Иванова, , куратор проекта
Что дается подросткам с наибольшим усилием в клоунаде, а что становится моментом внутреннего освобождения?

Наибольшие усилия, на мой взгляд, вызывают «скучные» упражнения на работу с собственным телом, на многократное повторение. Когда нужно поработать не отвлекаясь на разговоры, отточить технику, попробовать новые походки, новую пластику. Поэтому освобождением здесь становятся командные упражнения на общение, там где можно полностью отпустить себя и дурачиться. Но мы то понимаем что все работает в комплексе!) и прежде чем уходить в партнёрство и парную игру, нужно совладать с собственным телом и головой. Это бывает сложно, но ребята концентрируются и растут в своей технике с каждым занятием (это мы наблюдаем по «старичкам» постоянно). Есть ребята которые прошли путь от полного отказа от упражнений до уровня, который может достичь не каждый профессиональный артист.
— Рома Буссе, , куратор проекта
Методика и педагогика
Как вы строите программу занятий?
Как методолог многих проектов, связанных с подростковой жизнью — например уже 5 лет работаю с Всероссийским проектом «Школьная классика» — могу сказать, что я, наверное, главный зануда в вопросах методики. Можно даже в шутку сказать: в нашем кружке я тот самый человек, который способен вывести всех именно этими вопросами. И это забавно, потому что в клоунаде как раз такие зануды и нужны — они удерживают структуру в хаосе. Программа наших занятий строится по простой логике: от простого к сложному. Как и любая творческая методика, она начинается с базовых вещей — раскрепощения и внимания. Мы опираемся на принципы, лежащие в основе театральных и цирковых школ: развитие внимания, развитие фантазии и развитие партнёрства. И только потом подключаем элементы клоунады — из разных жанров, направлений и даже из традиций разных стран.
— Варвара Иванова, куратор проекта
Какие принципы лежат в основе педагогики/психологии лаборатории?
Главный принцип — не навредить! Как же ещё? А вообще, мне трудно говорить про психологию, потому что я не психолог. Если брать педагогику, то безусловно это мягкий подход без давления и принуждения к чему либо. В театральной среде эти методики используется в школе Николая Васильевича Демидова, соратника Станиславского. Основной принцип, на мой взгляд, это действие от внутренних импульсов, действовать когда реально захотелось и не мучать себя.
— Рома Буссе, куратор проекта
Как вы выбираете педагогов и артистов, способных работать с подростками через уязвимость?
Выбор ведущих — одна из ключевых задач куратора. Мы собираем рекомендации, изучаем портфолио и проводим несколько созвонов с кандидатами, на которых рассказываем о нашем подходе, ценностях и целях занятий, обсуждаем их опыт работы с аудиторией и наблюдаем реакцию на наши предложения. Уже на 3–5 созвоне становится ясно, кто лучше подходит подростковой аудитории. Затем мы запускаем пилотный курс и внимательно следим за процессом: разработкой плана занятий, взаимодействием ведущего с участниками и его реакцией на обратную связь. Если методика или стиль ведущего не позволяют эффективно работать с подростками, пилот завершается без дальнейшего развития.
— Полина Зотова, , куратор проекта
Опыт, развитие и наблюдения
Что менялось от сезона к сезону — «Признаки дурачины», «Неловкие контакты третьей степени», «Смелость на прокачку» — в подходе, реакции участников, ваших открытиях?
У каждого сезона было своё направление. В одном модуле мы исследовали внутреннего персонажа — своего дурака: какую часть нас он отражает, почему он именно такой, является ли его появление защитной реакцией, или идеалом, которому мы хотим соответствовать, или тем, как нас видят окружающие. В другом сезоне фокус сместился на контакт с партнёром: через паттерны взаимодействия белого и рыжего клоуна мы наблюдали, кем хотим быть — ведущим или ведомым. Мы работали в дуэте, малой группе и всем коллективом — «оркестром дураков». Затем наше внимание переключилось на тело, и в кружке было много разнообразных упражнений на телесную проявленность. Сейчас мы исследуем взаимодействие с предметами, зрителем и пространством как с партнёрами, используя всё, что нас окружает в качестве дополнительных инструментов, которые поддерживают, а не мешают развитию этюда. Что будет дальше — посмотрим.
— Полина Зотова, , куратор проекта
Какие моменты из прошлых сезонов стали для подростков личным откровением через клоунаду?
Есть несколько показательных моментов, которые для меня особенно важны. Например, история одной нашей студентки — очень трогательной, стеснительной девочки. Свою стеснительность она сумела переформатировать в клоунский образ, придумав персонажа — клоуна Соню, которая всё время хочет спать. Она никогда не вступала в прямой контакт со зрителем, а просто находила где-нибудь людное место, раскладывала подушки и «засыпала» там. И этим, не говоря ни слова, она всё равно привлекала внимание, вызывала улыбку и интерес. Её стеснительность, её трогательность никуда не исчезли — наоборот, стали её выразительным инструментом. Другой показательный момент — это когда яркая, эффектная девочка, которую мы привыкли видеть с уложенной прической, длинными ресницами и на каблуках, вдруг выбрала для себя совершенно неожиданный образ. Её клоун оказался в тельняшке, в смешной шапке, с убранными волосами — настоящий маляр. И этот образ жил. Он оказался не просто перевоплощением, а каким-то честным, настоящим проявлением её самой — без привычных внешних атрибутов, но с огромным внутренним присутствием. Или, например, мальчик, который пришёл к нам очень активным, темпераментным, уже прошедшим массу разных актёрских курсов. Он был, как говорится, чересчур яркий — немного «наигрывал». Но со временем, через процесс, он сумел преодолеть этот перебор и превратить его в обаятельную мягкость. Его энергия осталась, но стала осознанной, тёплой, направленной — и это, на мой взгляд, огромный личный сдвиг.
— Варвара Иванова, куратор проекта
Будущее проекта
Можно ли представить «Красный нос» вне театральной сцены — например, как метод школьной педагогики или социальной работы?
Для нас этот проект изначально существует вне театральной сцены — он там и родился. Финальная точка курса — это выход к зрителю, но этот выход может произойти где угодно. Зритель может оказаться в кафе, в коридоре по дороге в уборную, у входа в здание, или просто сидеть где-то в задумчивости — и именно там может случиться встреча. Поэтому сам проект по своей сути нетеатрален. И, на мой взгляд, было бы целесообразно внедрить его элементы в детскую педагогику. Потому что клоунада, в данном случае, — это не только искусство, а ещё и инструмент развития выразительности. А выразительность нужна всем — и детям, и взрослым. Она помогает отстаивать свои интересы, презентовать себя, быть услышанным. Именно этой выразительности и лёгкости нам часто не хватает. И если бы элементы такого подхода были интегрированы в школьную систему, пусть даже в самой простой форме, — это было бы, я уверена, очень полезно и живо.
— Варвара Иванова, куратор проекта
Что вам важно сохранить в клоунаде как уникальном подходе?
В клоунаде мы стремимся сохранить искренность, подлинность, трогательность, хрупкость и нежность. Мы не хотим сводить её к буффонаде или искать яркие и громкие решения — наша цель работать с тонкими чувствами и настоящими проявлениями. Важно думать не о том, какое впечатление мы производим на других, а о том, как мы ощущаем себя в проекте, в моменте, насколько мы честны с собой и с партнёром. Удивительным образом именно такой подход позволяет открываться людям, а не прятаться за красным носом и экстравагантным поведением. — Полина Зотова, куратор проекта
Лаборатория «От забора до обеда. Фотоклуб для подростков»
Финальный показ фотокружка для подростков «От забора до обеда», 2023
Замысел и смысл проекта
Как родилась идея объединить фотографию и исследование повседневности? Почему именно повседневное стало предметом внимания?

Кажется, что фотография и исследование повседневности это очень близко стоящие вещи. И то, и другое кажется очень простым, но если присмотреться, оказывается сложным, обещает больше, чем может показаться на первый взгляд. Фотография очень простой инструмент, как кажется. Что это значит? Это значит, что точка входа довольно простая. Тебе не нужно упражняться много лет для того, чтобы делать свои первые работы. Велика роль случайности и хорошая фотография может стать удачей. И так как камера часто бывает под рукой, начинаешь снимать то, что близко. Сначала кажется, скучно, а потом учишься видеть, как много вообще вокруг того, чего ты не замечал. Есть такая классная фраза Гвидо Гвиди: «Для меня камера — это протез, который позволяет мне лучше видеть мир и предметы, которые я фотографирую. Это протез, как и очки: без очков я ничего не вижу или вижу очень мало. Все расплывается. С камерой я вижу лучше, особенно после того, как фотография сделана, а не в процессе ее создания. Восприятие вещей становится лучше, как кто-то сказал, „после того, как окно закрыто“, другими словами — впоследствии. Камера нужна не для того, чтобы увидеть, что я думаю о вещах, а для того, чтобы выяснить, каковы вещи на самом деле». Это все ровно про вот это открытие повседневности!
— Ксения Плотникова, куратор проекта
Что лежит в основе вашего подхода к исследованию повседневности и как фотография помогает подросткам увидеть смысл в обычном?

Фотография в том виде, в котором мы её обсуждаем, возможно не сразу помогает увидеть смысл. Скорее она даёт толчок мысли, рождает сомнения, сталкивает подростков со случайностью, неизвестностью. Многое может быть непонятно сразу, и мы учимся не пугаться этого, не скучать от непонимания, не отворачиваться, а смотреть дальше, искать значение, понимать контекст. Там, где родилась мысль, как мне кажется, рано или поздно появится смысл.
— Ксения Плотникова, куратор проекта
Средства и инструменты
Почему для вас была важна свобода выбора между камерой и телефоном? Помогает ли это снять технические и психологические барьеры?
Изначально просто не хотелось делать дополнительное ограничение. То есть если ребенку хочется снимать, но под рукой у него есть только телефон, это не должно становиться препятствием для того, чтобы фотографировать. Потому что действительно можно сделать удачные и имеющие смысл кадры и на телефон. Другое дело, что это не отменяет того, что по ходу курса мы много говорим о том, что камера и взгляд через видоискатель дисциплинируют взгляд. Мы рассматриваем много авторов, которые снимали не просто на камеры, а на большеформатные камеры, то есть процесс очень трудоемкий, многоступенчатый. С одной стороны, это препятствие, а с другой, начинаешь понимать, что решение сделать кадр становится очень осознанным. И для нас это тоже очень важная точка. Постепенно многие дети получали в подарок камеры или копили сами на фотоаппараты. Это могли быть простые плёночные мыльницы. Но постепенно более сложные инструменты тоже добавлялись в арсенал.
— Ксения Плотникова, куратор проекта
Что сегодня определяет «хороший кадр» и как вы работаете с визуальной культурой поколения соцсетей?
Это интересный вопрос. На детей сейчас обрушивается огромное количество довольно плохо отфильтрованной информации. В преподавании визуальных искусств очень часто говорят о насмотренности. Насмотренность — это не просто некое количество изобразительного материала, с которым столкнулся человек, но умение его анализировать. Сегодня на детей буквально обрушивается водопад изображений, очень часто это низкосортные изображения, пустые, и что, кажется, хуже всего — искажающие картину мира. В современные телефоны встроено уже какое-то количество пресетов и фильтров и нейросетей, которые ретушируют кожу, меняют пропорции, действительно искажают реальность. Вообще сам угол оптики, который встроен в телефоны, это очень искаженный взгляд. И поэтому, потребляя большое количество фотографий в сети, из открытых источников, из телеграм-каналов, из пабликов ВКонтакте, у детей очень часто понижается вкус, они перестают критически относиться к входящей информации, верят ей и забывают по сторонам смотреть. В лучшем случае эта информационная завеса превращается в белый шум, слепую зону. На занятиях мы очень много смотрим и говорим об истории фотографии. Говорим об эволюции фотоязыка и о том, как формирует тот или иной выразительный канон, чем он обусловлен, как исторически так сложилось, и как это влияет на наше восприятие. Мне кажется, что таким образом дети учатся сами анализировать кадр. И когда они теперь сталкиваются с посредственными изображениями, в которых нет никакого содержания, форма выбирается только ради формы, они уже очень классно умеют это считывать и понимать, где картинка так и остается просто картинкой, а где это фотография с потенциалом содержания.
— Ксения Плотникова
Коллективная работа и сообщество
Как вы создаёте безопасную атмосферу для обсуждения работ и находите баланс между критикой и поддержкой? В чём сила совместного просмотра и учит ли фотоклуб видеть друг друга внимательнее?

Мне кажется, что мысль часто рождается от сопротивления, или даже не от сопротивления, наверное, это неверное слово, а скорее так: нужно от чего-то оттолкнуться. Это может быть случайная строчка в тексте книги, которую ты читаешь, или заголовок в журнале, или чья-то реплика, строчка из песни. И также, мне кажется, работают и коллективные обсуждения. Момент, когда дети слушают друг друга, слышат, как каждый из них описывает свою работу, как её комментируют. Они могут почувствовать что не одиноки. Вот это самое главное, может быть, в искусстве. Потому что у людей гораздо больше общего, чем различий, но мы постоянно об этом забываем. И когда ты видишь, что кто-то довольно посторонний, знакомый тебе 2-3 занятия, вдруг обращает внимание на то же, на что и ты, концентрируется на этом и описывает это, это становится катализатором твоих собственных размышлений. И дает такое чувство группы, поддержки и любви. А про критику и поддержку, мне кажется, у меня вообще не получается критиковать. Не могу никогда сказать, что что-то сделано плохо. Даже если вижу, что что-то сделано не совсем хорошо, всегда стараюсь найти какую-то сильную часть работы, которую можно развить и углубить. Не уверена, что это всегда полезно, потому что, возможно, иногда благодаря критике некоторые процессы идут быстрее. Но пока мне кажется самым важным поддерживать, а не бежать за скоростью развития.
— Ксения Плотникова, куратор проекта
Динамика и развитие проекта
Что больше всего радует в развитии фотоклуба? Как меняются участники и кураторы? Какие работы стали для вас личным открытием?
Плюс клубного формата в том, что со временем можно реализовывать более сложные и насыщенные проекты: устраивать совместные фотопрогулки по городу, выезжать на съёмки в Подмосковье, посещать типографии или мастерские фотографов и художников. Это даёт возможность обсуждать уже не общие темы, а конкретные профессиональные вопросы — например, особенности печати или постановку света. Минус — в естественном изменении состава: участники растут, поступают в университеты, у них становится меньше времени на клубные активности. Зато отношения между куратором, ведущим и участниками постепенно переходят в формат дружбы и партнёрства: мы придумываем проекты вместе, на равных, разделяя общий интерес и опыт.
— Полина Зотова, куратор проекта
«Балет на тротуаре»
Балет на тротуаре — это двухнедельная исследовательская лаборатория для старшеклассников, в рамках которой участники вместе с антропологами, социологами и художниками погружаются в изучение города — его ощущений, звуков, запахов и пространственных связей. Летом 2025 года лаборатория прошла уже в четвертый раз и была посвящена методам сенсорной этнографии: вместе с антропологами Павлом Степанцовым и Денисом Сивковым участники обращали внимание на то, как звуки, запахи и тактильные ощущения формируют их урбанистический опыт. По итогу трёх мастерских — Аудиомастерской, Ольфакторной и Монументальной — ребята сделали выставку своих работ, где были представлены коллективная звуковая инсталляция, итоги обонятельного эксперимента «Вонючая шалость» и современные кареты, сделанные в виде скульптур из разнообразных материалов. В этом им помогли художники Тимофей Максимов и Анна Комарова, саунд-артисты Егор Клочихин и Георгий Орлов-Давыдовский, парфюмер Мария Головина и ольфакторный куратор Катя Порутчик.
Лаборатория «Балет на тротуаре», 2025