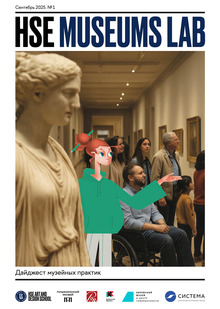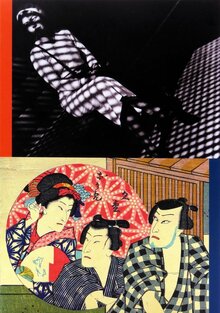Музей Криптографии и школа Каскад. Проект как метод
Музей криптографии

Музей криптографии — это первый в России научно-технологический музей, посвященный истории и развитию криптографии, а также методов защиты информации.
Подробнее об создании музея криптографии и этапах создания «Каскад. Проект как метод» нам рассказала Лидия Лобанова — директор Музея криптографии и сооснователь межмузейной проектной школы «Каскад. Проект как метод»
Как вы видите специфику музея как институции: с чего начинается различие в восприятии взрослой и детской аудитории?
Мы понимаем, что деятельность музеев в исторически направлена на хранение и передачу определенного научного, в хорошем и широком смысле слова, содержания. Скажем честно, изначально это содержание доступнее взрослой аудитории. Для детей оно всегда требует интерпретации и адаптации. Если посмотреть хронологически, музей всегда был ориентирован именно на взрослую публику. Адаптация под детскую аудиторию произошла сравнительно недавно.
Когда, на ваш взгляд, музеи начали осмысленно работать именно с подростками?
Выделение подросткового возраста в отдельное направление — это, как мне кажется, признак хорошего времени. Это произошло, когда появился определенный ресурс, в том числе человеческий и методический, чтобы осмысленно выделять подростков с пониманием того, что они не хотят оставаться в «детской» зоне.

Здесь можно вспомнить школьную систему: начальная школа отделена от средней, средняя — от старшей. Это неслучайно. В музее также пересекаются разные возрастные и смысловые слои. Однако редко выпадает возможность отстроить отдельные музейные пространства. Хотя существуют практики, когда создаются детские залы или целые детские музеи — у этого подхода есть и плюсы, и минусы.
Как вы относитесь к идее отдельных пространств для разных аудиторий? Это расширяет или, наоборот, сужает опыт?
Все зависит от решений. Любой формат имеет право на существование. У меня первое образование юридическое, и, как человек с юридическим мышлением, я привыкла рассматривать вопрос с обеих сторон: защиты и обвинения. У идеи «отдельных пространств» есть очевидный плюс — возможность создать адаптированную среду, дать особый, опыт. Но есть и другая сторона: путь исключения.
Когда мы говорим об инклюзивности, не только связанной с инвалидностью, а шире — с разнообразием общества, важно помнить, что музей тоже является частью этого разнообразия. Когда мы создаем специальные пространства по какому-то признаку, например возраста, особенностей восприятия, мы частично исключаем эти группы из общего процесса. Мы создаем гомогенный опыт, лишая возможности столкнуться с «другим»: взглядом, опытом, историей. А ведь именно это столкновение формирует уважение и понимание.
Как вы видите принцип разнообразия в музейном мире?
Расскажу историю. Однажды мы с моим сыном, которому было на тот момент девять лет, поехали на машине во Владивосток. По дороге заходили в музеи в каждом городе, где останавливались. И вот мой сын все время тянул меня за руку: «Мам, мам! Ну расскажи им, как надо делать музеи!» У меня на это есть стандартный ответ: «Понимаешь, музеи должны быть разными — как и люди. Музеи не должны быть одинаковыми».
Люди часто стремятся все унифицировать. Давайте всем расскажем, какими должны быть музеи, установим стандарты, все классифицируем, разложим по полочкам. Но ведь люди очень разные. Тогда почему музеи должны быть одинаковыми? Музеи могут и должны быть разными. Благодаря им посетители получают особый опыт — это касается и вопроса о работе с подростками: когда есть возможность выделить подростковое направление в отдельную, самостоятельную работу, это всегда хорошо. Такое выделение позволяет идти вглубь и работать на долгосрочный результат. Но в целом у каждого музея разный объем ресурсов, задач и возможностей в этом контексте.
Как, по вашему мнению, изменилась подростковая аудитория за последние годы, и как музеи реагируют на эти изменения?
Подростковая аудитория меняется довольно быстро. Есть устойчивые вещи, но мы все живем в эпоху кризисов, и подростки проживают их по-своему. Их поведение, интересы, эмоциональные реакции — все это меняется. Музеям приходится адаптироваться: менять программы, форматы, пространство.
Подростковые программы редко бывают массовыми. Это не о посещаемости. Это об осознанном выборе работать с небольшой аудиторией, но углубленно и вдолгую. И мы видим в этом настоящую ценность. Я думаю, это был в хорошем смысле и тренд, и важный момент для всей музейной среды. Сейчас у всех разный опыт. Кто-то понял, что хочет работать так всегда. Кто-то попробовал, посмотрел на результаты и решил, что этот формат им не подходит.
Подростковая аудитория за последние 5 лет стала значительно менее устойчивой с точки зрения включения в долгосрочные программы. Неопределенности очень много, сложно договориться, дать обещание на что-то долгосрочное, на годовую программу, например.
С какой идеи начиналось проектирование пространства Музея криптографии и адаптации его под различные возрастные категории?
Наша проектировочная идея выглядела так: если мы интересно и понятно расскажем подростку, то интересно и понятно будет всем. В этом смысле нам часто говорили про проектировании: «Вы делаете детский музей». Мы не делали детский музей. Мы исходили из гипотезы, что подросток — это средняя и старшая школа. Это тот возраст, когда ты, во-первых, отделяешься от детской аудитории: тебе не нравятся заигрывания, но тебе нужно, чтобы было «ясно и понятно». И нужна мотивация — ответ на вопрос «а зачем мне это знать?».
Очень важной частью разработки концепции было понимание: «А зачем человеку Музей криптографии? Что мы дадим посетителю? Какую ценность создаем для него?». Мы хотели сделать полезный музей.
Когда мы пошли от позиции «зачем это человеку и почему это полезно», мы очень быстро пришли к теме коммуникации — к тому, что человек пользуется криптографией каждый день, но не знает об этом. И первым ответом стала обратная хронология. Это универсальное решение для всех наших посетителей: почему тебе вообще нужно об этом знать? Прямая хронология понятна — технологии развиваются линейно: появляется новый способ передачи данных, появляется способ его защитить. Но, идя с конца, мы постоянно натыкаемся на знакомые явления. И нам показалось важным сразу погрузить человека, особенно подростка, в среду, в которой он находится каждый день, и показать, как она функционирует.
Мы провели социологические опросы, фокус-группы и глубинные интервью с целевыми аудиториями, в том числе с подростками. Что они нам сказали?
«Музей — это об истории. Я туда не пойду».
«Если мне нужно что-то узнать, я загуглю или посмотрю в социальных сетях».
«Я уже десять раз смотрел ролик о том, как работает Wi-Fi, и не понял. Но в музей не пойду, потому что там пыльно. Там о прошлом, а не о современности».
Было много обсуждений — даже о том, стоит ли нам называться музеем. Но мы все-таки хотели быть музеем и собирали коллекцию. Просто у подростков есть стигматизация самого слова «музей».
Как вы искали язык, на котором музей может говорить с подростками?
Во время проектирования у нас работала молодежная команда. Мы запускали проект в пандемию, объявили open call и собрали ребят из разных городов России. Среди участников было несколько ребят с инвалидностью, которые очень помогли при разработке доступной среды. Они каждое воскресенье встречались онлайн, выбирая удобное время с учетом часовых поясов. Ребята погружались в темы криптографии и современных технологий, изучали наши тексты, говорили, где скучно, где непонятно. Смотрели списки вопросов, обсуждали формулировки. Это было важное совместное тестирование.
Как вы решали вопрос сложности и доступности контента?
Главная задача — максимально исключить сложные термины. Даже тот гик-контент, который рассчитан на профессионалов, запускается отдельно — с помощью специальной карточки-ключа, которую получаешь на входе. Хочешь формулы и сложные термины — пожалуйста, у нас есть ряд инсталляций для более продвинутых в теме. Для всех остальных — материал подается так, чтобы нужно было немного подумать, но не перегружаться. Были строгие требования к длительности роликов и длине текстов. Это действительно была непростая задача — все время искать баланс.
Какие форматы взаимодействия с подростковой аудиторией вы считаете наиболее эффективными?
Если говорить о подростках, то я бы выделила два основных формата, которые сегодня существуют.
Первый формат — это когда мы говорим о музее как о пространстве. Возможность просто быть в своем режиме. Мы должны честно признать, что огромное количество подростков приходит в музей не по своей воле, а потому, что их приводят туда классом. Об этом редко говорят, но подростковая аудитория тоже часто приходит организованно. Это большой поток — люди, которые оказываются у нас, получают свой опыт, но они не сами приняли решение этот опыт получить. Поэтому бывает непросто, иногда даже очень сложно. Бывает грубость, бывает агрессия.
В таких случаях важным музейным опытом становится не столько интеллектуальный, сколько опыт уважительного отношения к себе и другому. Например, когда мы видим, что подростку некомфортно в группе — а от этого дискомфорт испытывают и другие участники, и ведущие — иногда самым действенным оказывается просто дать возможность уйти и вернуться, когда станет комфортно. Побыть одному, походить по экспозиции, дойти до кофейни, выпить какао или воды, а потом вернуться. Даже этот маленький шаг — просто дать право выбора — оказывается важным. Чтобы посещение стало не обязанностью, а личным решением.
Иногда это непросто: школа может ожидать, что музей «должен» удержать всех, заставить, заинтересовать. Но мы — лишь часть их опыта. Они ехали час или полтора, что-то уже происходило с утра, и мы не можем это не учитывать. Поэтому иногда единственно правильным решением бывает сказать: «Возьми пять-десять минут, проведи их так, как тебе нужно». И чаще всего это работает. Когда у человека появляется возможность выбора, он быстрее включается. Это кажется мелочью, но на деле — ключевой момент: сделать так, чтобы визит стал его собственным опытом.
Если говорить о втором направлении, то я верю в лабораторные форматы. Когда подросток получает определенную информацию, перерабатывает ее и создает что-то свое. Это, на мой взгляд, максимально эффективный результат. Когда человек способен воспринять, осмыслить и произвести что-то новое — для себя или для других. Создание — очень мощная практика. Хотя важно понимать: не все должны что-то создавать. Поэтому хорошо, когда в музее есть разные форматы — от более массовых до углубленных, где учитываются особенности подростковой аудитории.
С какими трудностями сталкивается команда музея при приеме массовых подростковых групп?
Совсем недавно к нам одновременно пришло 70 школьников. Администраторы поддерживали смотрителей в чате — писали: «Коллеги, к вам идут 70 школьников, держитесь! Все будет хорошо, справимся!». Это похоже на цунами — мощная энергия, поток жизни. Мы рады, что они пришли, но это непросто. В экспозиции — 120 интерактивных точек контента. Все ломкое, внимание рассеянное, особенно при большом количестве людей. Но мы все равно рады. Пусть с первого раза они не поймут все, пусть запомнят только три вещи — главное, что они почувствуют: наука не страшна, технологии не сложны, музей — нормальное место, где можно быть собой. Это, возможно, и есть первое, самое важное впечатление. Иногда этот опыт не совпадает с тем, что мы закладывали педагогически, но он формирует доверие и желание вернуться, узнать больше. Весной у нас была очень высокая посещаемость — около тысячи человек в день на тысячу двести квадратных метров экспозиции. Это много, и команда уставала, выгорала. Приходилось постоянно регулировать ритм. Но мы верим, что это важно, и по отзывам видим: это действительно работает. Подростки перестают бояться музея, уходит установка «зачем мне туда идти, я не справлюсь, меня там не ждут». Появляется ощущение, что это пространство для них.
Когда мы говорим о трудностях в работе команды, часто за этим стоит вопрос — где брать ресурсы, поддержку, новые смыслы. Особенно если речь идет о программах для подростков, которые требуют постоянного обновления и живого отклика на происходящее вокруг. В этой связи хочется спросить: Как строится ваше взаимодействие с индустриальными партнерами в контексте подростковых программ и как это влияет на музейные проекты?
Мы ведь частный музей и входим в технологический холдинг. Благодаря этому имеем прямой доступ к специалистам — к криптографам, экспертам по информационной и кибербезопасности, людям, занимающимся биометрией. Периодически мы делаем проекты совместно с технологическими компаниями.
В прошлом году, например, у нас была выставка о роли космических технологий в нашей повседневности «При чем тут космос». Мы сделали целую серию встреч, посвященных этой теме и связанным с ней профессиям. У нас тогда шел трек «Ключ к профессии», посвященный современным инженерным и научным специальностям.
К нам приходили молодые специалисты — парни и девушки 25–35 лет — и рассказывали: «Я занимаюсь плазменными двигателями», «Я занимаюсь терминалами лазерной связи». Вот, например, Ксюша Лазаренко, ей, кажется, 33 года, она говорит: «Я решила, что буду заниматься космосом». И вот теперь у нее и ее команды есть технология, аналогичная той, что у Илона Маска. В мире больше нет работающих, запущенных в космос терминалов лазерной связи, кроме их. Разработки в этой области ведутся с 1970-х годов, а они сделали это за два года. Ксюша с гордостью говорит: «Вы знаете, современный русский инженер — это я!» Мы сделали целую серию встреч, посвященных таким профессиям: что значит создавать микропроцессоры, кто этим занимается, какие сейчас стоят задачи в космосе, как инженеры их решают. Нам важно было показать именно логику работы — через задачи, которые решают молодые специалисты.
Какую обратную связь подростки дают после подобных встреч?
Полный зал — вот главный отзыв. Наш зал вмещает 120–140 человек, и на всех встречах он был полон. Это в основном подростки с родителями. С одной стороны, формат кажется тривиальным — «ключ к профессии», рассказ о профессии. Но почему нет? Как еще узнать, чем реально живет современная инженерия, не потратив на это кучу времени? Мы старались, чтобы рассказы шли от первого лица — от ребят, которые недавно сами прошли этот путь. Для нас это было принципиально: не приглашать только взрослых, состоявшихся экспертов, которые рассказывают о своих успехах. Нам нужны были люди, у которых еще свежий опыт поиска, проб и ошибок. Например: «Я поступил в университет, думал, что буду заниматься одним, оказалось — совсем другим. Я бросил, пришел на такую-то встречу, придумал такой-то проект, он понравился инвесторам, теперь работаю с баллистикой». И вот такие истории, где есть и удачи, и неудачи, очень важны. Отзывы были отличные, зал всегда полон. Мы будем продолжать — кажется, это действительно важно для нашей аудитории. Такие встречи помогают подросткам быстрее ориентироваться в профессиях, меньше терять времени на поиск своего пути.
Есть миллион форматов, которые бы можно было реализовать. Мне, например, было бы интересно поработать в регионах. Мы сейчас разрабатываем мобильный корнер — передвижную выставку, которая позволит представлять различные проекты музея в регионах. Мы планируем сделать сопроводительную программу, потому что хотелось бы передать этот опыт как можно большему количеству подростков. Вообще вообразить, что у тебя может быть другой опыт — это такая важная, трансформирующая история.
Каскад.Проект как метод
«Каскад. Проект как метод» — это межинституциональная проектная школа для учеников старших классов, в рамках которой подростки получают возможность реализовать собственный проект в культурной среде, работают с реальным музейным контекстом, исследуя городскую проблематику прошлого и будущего. Музей Москвы послужит отправной точкой, экспериментальной площадкой для переоткрытия современного города людьми подросткового возраста.
Миссия проекта — воспитать из студентов программы креативных предпринимателей, импресарио, антрепренеров, лидеров. Студенты программы получат специализированное обучение, развитие практических навыков ведения проектной работы через взаимодействие с наставниками и погружение в культурную жизнь Москвы.
Как зародилась эта идея «Каскада» и как вы определили цель проекта?
Мы работали с Сашей Хейфец в Политехе. И тогда мы задумались, почему подростки не ходят в музей. У нас была подростковая учебная группа. И вот мы думали о ее закрытости, о том, как сложно набирать ребят не из районов внутри Садового кольца. Я из маленького поселка. У меня не было даже школы рядом. Я иногда прихожу на родительские собрания, и мне, например, говорят: «Вот знаете, мой сынуля, он не очень хорошо относится к музеям, не очень хорошо себя вел». Я говорю: «Да я вообще до окончания школы была только на станции кольцевания птиц и в Музее янтаря».
Но я думаю, что имея более широкий жизненный опыт, мы по-другому принимаем решения. Мы по-другому представляем, что может быть, что мы можем совершить, что мы можем сделать. У нас шире оптика. Я точно это вижу по участникам проекта «Каскад», вообще по детям. У меня первое образование юридическое. Как я к этому пришла? Из чего я выбирала? Кого я видела? Школьных учителей? Милицию, наверное? Продавцов в магазине? Примерно из такого списка я выбрала, что буду юристом. Я решила, что буду адвокатом, буду спасать людей и бороться за справедливость. В этом смысле, наверное, если бы я обладала большей насмотренностью, я бы могла принять какое-то другое решение. И быстрее прийти в ту точку, где я оказалась. Хотя, в общем-то, я довольно быстро оказалась в музее. Но был непростой момент, когда я поняла, что с юриспруденцией не хочу связывать свою жизнь, но еще не понимала, по какому профессиональному пути мне идти.
Вернусь к тому, как мы решали задачу, как привести подростков в музей. Мы стали погружаться больше в подростковую тему. В тот момент вышло американское лонгитюдное исследование «Пространство для роста. Длительное воздействие интенсивных подростковых программ в художественных музеях» (Room to Rise. The Lasting Impact of Intensive Teen Programs in Art Museums). Из него стало очевидно, что благодаря таким программам у людей меняются карьерные траектории, вовлеченность в социально-политическую жизнь, меняется очень много вещей: установки, ценности и так далее.
Так у нас появилась версия, что не нужно делать, например, мастер-классы. Нужно организовывать что-то более длительное по времени. Потом вышло исследование Московского института социально-культурных программ о свободном времени подростков. Оказалось, что его не так много, потому что ребята значительное время уделяют подготовке к экзаменам. Тогда вводилась проектная деятельность в школах. Мы придумали, что не будем создавать конкурирующие предложения, а попробуем решить эту проблему. Мы решили предложить подросткам делать свои проекты в музеях, а потом защищать их. Нам казалось, это гениальная идея. Просто гениальная. Она масштабируема на всю страну. Это легко. В каждом райцентре есть художественная галерея или краеведческий музей, есть школа, свои талантливые люди, которые могут быть такими медиаторами. И вот на этом треугольнике может создаваться жизнь. В каждом райцентре обязательно должен появиться какой-нибудь «Каскад».
Нам казалось, что мы учли все. Мы написали методологию, с нами работала методист Даша Илишкина. Мы подались на грант, защитили проект, стали его реализовывать, сделали классный набор, сделали классную выставку, и дальше оказалось одно «но». Два «но». Во-первых, мы обнаружили, что проблема не в том, что подростки не ходят в музей. Проблема в том, что им некуда ходить вообще. Их все боятся. В том числе потенциальные лекторы. «А подростки вообще люди? , — сказал нам один очень известный человек. — Как с ними разговаривать вообще? Зачем вот это вот все? Это не опасно?».
И вторая вещь, которая внезапно обнаружилась… В первый год, когда мы запустили проект, мы презентовали его в школах, рассказывая, как все будет интересно. А потом мы сделали выставку. И выяснилось, что темы, на которые хотят говорить подростки, максимально нетривиальные и часто нежелательные для школ, некомфортные. Потому что через творчество выходят болевые точки. Если был опыт травли, он начинает выходить. Это темы, к которым массовая школа не готова, да и, наверное, не должна с этим работать. Но выбирая между тем, сделать тему, удобной для школы или ценной для подростка, мы в конце концов выбрали второе. Такая вот история.
Где и на какой базе проходит проект «Каскад»?
В последние три года у нас большое партнерство с Музеем Москвы, и вместе с ним мы получили 49-й павильон на ВДНХ — это основное пространство, в котором мы работаем. Подростки могут приходить туда на занятия или просто так. Ранее мы работали по системе договоренностей с разными музеями и галереями. Первый год «Каскад» проходил на базе галереи «Триумф». Занятия проводились на самых разных площадках: Еврейский музей и центр толерантности, музей ГУЛАГа, Музей криптографии и другие дружественные культурные институции, которые предоставляли нам пространство на час-два в неделю.
У этого формата есть свои плюсы: программа может существовать параллельно в разных местах. Но есть и минусы: у таких площадок нет своих привычных элементов, которые нужны для проведения уроков и практик. Часто занятия проходили прямо в галерее, в очень простой обстановке: стол, стулья, экспозиция.
Если говорить о работе подростков с экспозициями, то наши выставки проходили на самых разных площадках: в Центре Вознесенского, Центре Гиляровского, Центре современного искусства «Фабрика», фонде RuArts и на других культурных площадках, в том числе за пределами Москвы. Мы делали проекты в Туле, Твери, Мурманске, Апатитах, Новосибирске, Красноярске.
Какое главное открытие о подростках вы сделали, работая над «Каскадом»?
У меня изменилось представление о самой себе и о среде взрослых. Я, честно говоря, очень удивилась тому, как взрослые относятся к подросткам. Иногда коллеги из других городов говорят: «Вы знаете, таких подростков, которые вам нужны, у нас нет!» или «Столько таких подростков, которые вам нужны, у нас нет!»
На самом деле подростки везде одинаковые. В любом городе можно найти подростков, которым можно дать внимание, честность и диалог. И это очень важно для любого человека. В этом смысле у меня не было больших ожиданий от подростков. Они иногда действительно раздражают, особенно перед выставкой. Но надо сказать, что перед любой выставкой взрослые тоже раздражают, потому что многие скатываются в такое настроение: «Не успел, забыл, не подумал, почему так сложно?».
Однако степень нетривиальности тем, на которые обращают внимание подростки, каждый год просто сбивает меня с ног. Каждый год появляются темы, которых ты не ждешь, которых раньше не было. Конечно, есть темы, которые повторяются и понятны, которые уже ожидаешь, потому что работаешь с этим много лет. Но потом раз — и кто-то делает что-то совершенно неожиданное. Это очень крутой момент — наблюдать, как у человека настраивается его оптика, и мир вокруг начинает выглядеть по-новому.
Были ли темы, затронутые подростками, которые особенно вас удивили или тронули лично?
У нас была, например, работа «Театр слизней» в этом году. Она посвящалась восприятию каждого участника. Это был театр слизней, потому что звук существовал в зависимости от того, сколько вас и как вы двигаетесь в этом пространстве. Смысл, в который мы погружаемся, заключается в следующем: есть существа, к которым многие изначально относятся с отвращением или негативом. А кто-то может увидеть в этом красоту, некоторый театр, действие, шарм, очарование. Все вместе смешивается в разнообразную реальность и формирует ее в зависимости от того, как мы взаимодействуем с этим мнением. Это очень тонкая работа, смысл которой заключается в том, как неосознанно и зачастую необоснованно мы формируем мнение о чем-то или о ком-то, и как один и тот же объект может вызвать у кого-то отвращение, а у кого-то восхищение и искреннее очарование. В итоге это создает определенную смысловую среду — очень тонкую и сложную.
Или, например, в этом году была работа в формате кукольного застолья с зачеркнутыми глазами. Смысл ее в том, что застолье — это формат собирания вместе, совместного проживания чего-то важного. Перечеркнутые глаза символизируют то, что даже находясь вместе, мы можем быть не вместе, не в моменте, не рядом и не погружены друг в друга.
Еще одна работа, которая оставила след в моем сердце. Она была выполнена на материале детской фотографии с использованием элементов, которые создавали как бы трехмерный эффект. Идея была о том, что ценность многого, в том числе человека, зачастую осознается через потерю.Только так мы начинаем понимать ценность чего-то или кого-то, и это очень важная тема, даже если для взрослого она кажется очевидной.
Как организована команда «Каскада» и кто в нее входит — кураторы, тьюторы, психологи, специалисты из партнерских институций?
Наша основная команда — это старший тьютор — руководитель группы тьюторов, и методист, который занимается построением методологии работы. У нас есть методики работы с новыми кураторами, которые часто не имеют преподавательские практики. Главное — не просто хорошо разбираться в своем предмете, но и уметь передать знание, опыт и навык. Не сделать вместе, а дать инструменты, чтобы другой человек смог сделать сам. Понаблюдать за этими процессами, пройти через трудности и так далее.
Мы с Сашей Хейфец создаем программную рамку. Ищем людей, с которыми хотим работать с точки зрения содержания. У нас есть команда кураторов: современные художники, поэты, писатели и др. Есть команда тьюторов — это люди с психологическим или педагогическим образованием, которые занимаются групповой динамикой. Мы стараемся, чтобы группа состояла из куратора и тьютора. Иногда она состоит из кураторской пары — это важно отметить.
В зависимости от ресурсов у нас также есть продюсер и администраторы в павильоне, которые занимаются организацией взаимодействия. Продюсер поддерживает образовательную программу и создает параллельную программу. Мы с Сашей и продюсером занимаемся содержательной частью проекта.
Ярмарка направлений

«Каскад. Проект как метод» — это межинституциональная проектная школа для учеников старших классов, в рамках которой подростки получают возможность реализовать собственный проект в культурной среде, работают с реальным музейным контекстом, исследуя городскую проблематику прошлого и будущего. Музей Москвы послужит отправной точкой, экспериментальной площадкой для переоткрытия современного города людьми подросткового возраста.
Миссия проекта — воспитать из студентов программы креативных предпринимателей, импресарио, антрепренеров, лидеров. Студенты программы получат специализированное обучение, развитие практических навыков ведения проектной работы через взаимодействие с наставниками и погружение в культурную жизнь Москвы.
Наши редакторы посетили ярмарку направлений, где можно лично пообщаться с кураторами направлений, задать вопросы и познакомиться с другими участниками. Ниже вы можете ознакомиться. заметкой о событии, приуроченному к началу нового учебного сезона.
Редакторская заметка
На открытии нового набора Школы «Каскад. Проект как метод» проходили сессии по тридцать минут, в рамках которых можно было подойти к корнеру интересующего направления, познакомиться с кураторами и студентами прошлых лет, задать вопросы и попробовать себя в небольшой практике. Атмосфера была удивительно теплой и дружелюбной: кто-то приходил один, кто-то — с друзьями или родителями. Организаторам удалось выстроить безопасное, но вовлекающее пространство, где каждому было комфортно проявить себя и узнать новое.
Мне удалось посетить часть мастерской «Кураторские практики» — и даже этого хватило, чтобы почувствовать дух направления. Куратор Ирина Литвинова оказалась внимательной и вдохновляющей собеседницей. Она рассказала, что прием на курс не требует опыта в кураторстве: важнее желание исследовать, наблюдать и делиться своим взглядом. В основе обучения — сочетание исследовательского и практического подходов: студенты знакомятся с этикой кураторства, анализируют выставочные пространства, работают с художниками и учатся превращать идею в реальный проект. Минимум теории и максимум действия — именно так описывает Ирина свою мастерскую. Особенно впечатлило, как она вовлекала всех в разговор и тут же предложила попробовать себя в мини-задании: придумать концепцию выставки и описать ее другому участнику.
Не менее яркое впечатление оставила мастерская документального кино — пространство для исследования мира и себя через текст и неожиданные практики. Кураторы рассказали, что письмо здесь не цель, а инструмент для осмысления опыта. Участники будут жевать лимоны, смотреть на себя в зеркало, задавать непривычные вопросы и пробовать фиксировать реальность на языке текста. В финале гостям предложили простое, но действенное упражнение: написать все, что приходит в голову, не останавливаясь и не думая о форме. Эта честная практика оказалась по-настоящему освобождающей. Уверена, что подросткам именно такие занятия помогут глубже заглянуть в свои мысли и научиться видеть — и описывать — мир вокруг себя