
Подвижная архитектура и монтаж в японском кинематографе
Концепция
Японский кинематограф сформировался в культурной среде, где пространство мыслилось не как фиксированная геометрия, а как подвижная и трансформируемая структура. В отличие от западной архитектуры с её стабильными стенами и автономными помещениями, японское пространство обладает гибкостью: раздвижные перегородки, многоуровневые проёмы, бумажные ширмы сёдзи и модули татами создают условные границы помещения, позволяющие легко его видоизменять. Такой тип пространства формирует иную визуальную чувствительность, когда взгляд не прикован к стабильной точке, а двигается плавно, перераспределяя глубину, слои и линии. При формировании японского кино эта особенность интерьера перенеслась на экран. Персонаж мог внезапно появиться, исчезнуть или раствориться не за счет классических монтажных приемов, а благодаря трансформации самого жилого пространства. Такое взаимодействие архитектуры и движения формирует становление «подвижной» архитектуры как инструмента ритма, монтажа и драматургии.
Цель данного исследования — проследить, как этот принцип проявляется и трансформируется в японском кино 1930–1960-х годов: от устойчивой, ритуализированной структуры ранних семейных драм сёмингэки до радикального разрушения пространства в фильмах Новой японской волны.
Тема позволяет рассмотреть японскую архитектуру не просто как декорацию и фон, а как динамическую конструкцию, способную самостоятельно менять конфигурацию кадра. Это раскрывает повествование фильма через оптику взаимодействия материального (архитектуры) и временного (монтажа).
Материал подобран по принципу репрезентативных художественных этапов, а не строгой хронологии. Я включила в анализ фильмы раннего периода Одзу, Симадзу как формирование статичной, но внутренне подвижной структуры. Также рассматривала Мидзогути с его противопоставлением реального и иллюзорного пространств, эксперименты Ёсиды как нарушение архитектоники кадра и Имамуру, доводящего все до полной деконструкции.
В качестве текстовых источников я обращалась к публикациями о японском интерьере, мизансцене и театральности, а также к текстам с анализом жанра сёмингэки, эстетику Одзу, авангарда 1960-х, эссе и рецензиям на фильмы каждого представленного режиссера.
В фильмах будут проанализированы визуальные особенности мизансцены, разбор архитектурной структуры кадра, исследование логики внутрикадрового монтажа, взаимодействия героев с топологией дома.
Принцип деления глав построен по нарастанию подвижности архитектуры: от устойчивых композиционных структур к динамичной и мягкой трансформации, а затем к полному разрушению пространства. Такой подход позволяет показать, как японский дом, со всей его гибкостью и условностью, формирует особый способ кинематографического мышления. Архитектура становится не только средой действия, но и инструментом смыслообразования, позволяя сделать видимой материальность кино и открывая новый этап работы с пространством как концептуальным жестом.
Архитектура как стабильный каркас
Фильмография Ясудзиро Одзу • «Я родился, но…» • «Поздняя весна» • «Токийская повесть»
«Я родился, но…», 1932, реж. Ясудзиро Одзу
Драма об обычных людях в начале 1930-х сформировала жанр сёмингэки, где основу нарратива составляют мелочи скромного домашнего опыта, в которых стабильность рутины и неизбежность перемен соприкасаются. В сёмингэках проявилась необычная чувствительность к пространству повседневности, которая задается японской эстетикой «моно-но-аварэ», означающее печальное очарование вещей.
«Моно-но-аварэ» не создаётся диалогами: оно рождается в тишине интерьеров, в световых изменениях на татами, в пустых дверных проёмах, оставшихся после ухода героя. В этой эстетике архитектура как эмоциональная мембрана, фиксирующая следы присутствия, исчезновения и разлуки.


«Поздняя весна», 1949, реж. Ясудзиро Одзу
Фильмы Ясудзиро Одзу стали основополагающими в изображении и развитии жанра сёмингэки. «Моно-но-аварэ» у него передаётся через паузы, неподвижные планы, через отсутствующие крупные конфликты, развертывание внутренней драматургии внутри пространства дома.
«Токийская повесть», 1953, реж. Ясудзиро Одзу
Уже в 30-х у Ясудзиро Одзу зарождается узнаваемый стиль. Его фильмы традиционно описывают как «статичные», но статичность здесь не означает пассивность. Его пространственная логика переопределяет саму идею движения. Кристин Томпсон и Дэвид Бордвелл (Screen, 1976) подчеркивают, что характерные формальные черты его стиля, такие как низкая высота камеры, прямые углы в 90°, 360-градусная схема съёмки, обездвиженные камеры и переходные планы, формируют самобытную архитектурную эстетику.
В послевоенных фильмах эти приёмы становятся более строгими и ритмичными, а к 50-м кристаллизуются в полностью узнаваемый стиль, доходя до предельной точности.


«Токийская повесть», 1953, реж. Ясудзиро Одзу
Пространственные структуры Одзу существуют автономно, как самостоятельная система организации времени и движения. Композиция определяет драматургию, не наоборот.
Легко обратить внимание, как Одзу выстраивает кадр: воссоздаются внутренние рамки внутри кинематографической рамки за счет интерьерных элементов. Дверные проёмы, перегородки, шодзи, мебель рисуют графический каркас, задают вертикальные, горизонтальные перпендикулярные линии и прямоугольники, внутри которых развивается действие. Перемещение героев вплетается в заранее заданный порядок этих линий. Как отмечает Вуд, Одзу сохраняет «целостность кинорамки», позволяя персонажам входить и выходить не через края кадра, а через внутренние архитектурные пролёты (Wood, 1998). Это наделяет картину глубиной, создаёт ощущение, что движение проходит через изображение, а не пересекает его.
«Токийская повесть», 1953, реж. Ясудзиро Одзу
Это работает на восприятия пространства дома как сеть связанных комнат, где архитектура сама выполняет монтажную функцию: она открывает, скрывает, сужает, расширяет зону видимости, структурирует сам акт появления героев. Благодаря этому любое движение воспринимается как короткий бытовой жест (переход из комнаты в комнату, смена положения в пределах одной оси), который не нарушает композицию, а подтверждает её устойчивость (Taylor, 2020). Именно в таких рутинных, тихих и медленных действиях рождается ощущение течения времени. Стабильный визуальный порядок заставляет особенно остро услышать едва различимые разрывы, перемены в повседневности.
Архитектура как гибкое, переходное пространство
«Наша соседка, Яэ-тян»
«Наша соседка Яэ-тян», 1934, реж. Ясудзиро Симадзу
К числу режиссеров раннего японского кинематографа, кто также развивал жанр сёмингэки, можно отнести Ясудзиро Симадзу. Студио Shochiku, где работал Симадзу, ориентировалась на реализм и бытовые истории. Такая направленность впоследствии обрела название «японский классицизм» довоенного периода. Фильмы показывали повседневную жизнь среднего класса, мелочи быта, эмоции и социальные взаимодействия. Такой подход сопровождался социальной критикой, выявляя конфликты поколений и моральные нормы.
Работа Симадзу «Наша соседка, Яэ-тян» дает возможность оценить его вклад в формирование реалистического, бытового кино. На первый взгляд, фильм напоминает американскую лёгкую комедию 1930-х годов, даже за счет интеграции западных элементов (бейсбол, загородные дома, элементы массовой культуры), но эти мотивы переработаны через японскую повседневность.


«Наша соседка Яэ-тян», 1934, реж. Ясудзиро Симадзу
В фильмах Симадзу и Одзу заметно различие в подходе к пространству и движению. Стиль Симадзу заметно ощущает влияние американского кино 1920–30-х годов, включая длиннофокусные планы и более активные монтажные приёмы. Тут уже нет такой строгой композиционной системы, спокойно присутствуют и сменяются друг за другом как статичные, так и динамические кадры. Интерьер активно участвует в действии: комнаты, перегородки и наслаивание планов создают ощущение текучести пространства и ритма повседневной жизни. Монтаж более гибкий, сцены эпизодические, с лёгким комическим оттенком, а повседневные мелочи раскрывают характер и социальные отношения героев.
«Наша соседка Яэ-тян», 1934, реж. Ясудзиро Симадзу
«Наша соседка Яэ-тян», 1934, реж. Ясудзиро Симадзу
При статичных кадрах, где перегородки, мебель, дверные проемы сужают границы видимого появления героя, сохраняется ощущение, которое было основным в фильмах Одзу (будто движение проходит внутри изображения, не пересекая его напрямую).
Но Симадзу не останавливается только на подобных ракурсах, постепенно появляются и другие приемы, взаимосвязанные с интерьером. Например, Симадзу более символически использует кадрирование с помощью элементов помещения, наслаивает их для усиления драматургического момента. Эпизод двойного свидания, где отдаленный кадр заключен не просто в одну рамку, заданную каркасом дома, а несколькими разными, будто мы подглядываем из другого места. Мизансцена обретает коллажный характер, который искусно показывает положение персонажей по отношению друг к другу, усиливает любовный конфликт.
«Наша соседка Яэ-тян», 1934, реж. Ясудзиро Симадзу
Одно из самых динамических взаимодействий камеры и интерьера проявляется через съемку одним планом. Передвигая камеру и следуя за героем мы оказываемся в новой комнате. Поскольку перегородка в японском доме условная граница помещения, зритель ощущает не смену места, а непрерывность ткани быта, самой жизни, даже за счет таких простых действий, как приготовление и прием пищи в этой сцене.
«Сказки туманной луны после дождя»
«Сказки туманной луны после дождя», 1953, реж. Кэндзи Мидзогути
Развивал прием длительного плана, тонкое вниманием к пространству Кэндзи Мидзогути, центральная фигура классического японского кино. Его стиль формировался на стыке театра кабуки, традиционной живописи и документальной наблюдательности. Главные его художественные предпочтения: минимум монтажа, максимум непрерывающегося, скользящего движения камеры, позволяющего пространству «раскрываться» постепенно, почти ритуально.
«Сказки туманной луны после дождя» становятся синтезом реального и потустороннего: бытовая драма крестьянина и его семьи сплетена с историей духов и иллюзий, которые заводят героя в мир желаний, лишённый опоры в реальности. Фильм обращается к теме мужской амбиции и женской самопожертвенности. Он показывает, как желания размывают границу между земным и ирреальным, а непрерывная, плывущая камера создаёт эффект сна, в котором персонажи тонут, не замечая момента потери ориентиров.
Как пишет Энтони Рейнс в своем эссе, Мидзогути, «…сохраняя поверхность обыденных повседневных событий, одновременно создаёт детский мир анимистических страхов, которые вызывал свист ветра в камине или скрип дверей в ночи…» (Rayns, Sight & Sound).
«Сказки туманной луны после дождя», 1953, реж. Кэндзи Мидзогути
Реальный мир, где остались жёны, снят резкими, быстрыми, почти рублеными движениями камеры. Пространство там непредсказуемое, хаотичное, тяжёлое: двери хлопают, люди бегают, кадр прорывается сквозь толпы. Это мир войны, жадности, где нет ни стабильности, ни опоры. Камера как будто не успевает за происходящим, подчеркивая беспомощность и разрыв связей.
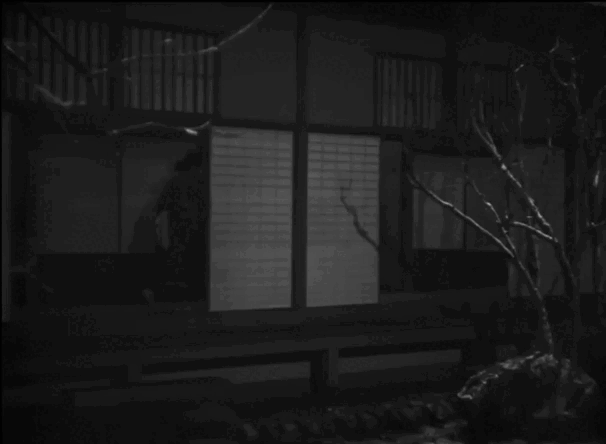

«Сказки туманной луны после дождя», 1953, реж. Кэндзи Мидзогути
Мир призрачной госпожи, где оказывается гончар, построен из плавности, медленного скольжения камеры, мягких поворотов, долгих планов. Там нет углов, спешки, боли. Камера не режет пространство, а растворяет его, как туман. Это создаёт ощущение гипноза и одновременно ловушки: зритель, как и герой, попадает в мягкое заклинание этого ложного мира.
«Сказки туманной луны после дождя», 1953, реж. Кэндзи Мидзогути
Все резко меняется в кульминационный момент осознания ловушки и призрачного мира. Когда Гэндзиро пытается прогнать призраков мечом, используется прием расхождение взгляда героя и ракурса камеры. Она движется на него, сужая пространство и создавая почти животное ощущение давления. В этот момент герой врезается в стену, разрушая тонкую перегородку. Этот жест подчёркивает хрупкость границы между материальным и фантазийным, буквально вынуждая героя столкнуться с реальностью физически.
«Сказки туманной луны после дождя», 1953, реж. Кэндзи Мидзогути
Наполненный чувством разрушения и утраты эпизод возвращения домой. Сначала герой входит в полуразрушенное жилище, и камера движется за ним полукругом, не прибегая к монтажным склейкам. Оказавшись вновь у входа, герой наблюдает уже обжитое помещение, где сидит призрачная жена Мияги. Пространство поменяло состояние внутри одного плана, как будто подчинилось не логике реального времени, а ритуальной трансформации. Камера выступает посредником между мирами, а плавность движения становится ключом к переходу. Благодаря таким решениям фильм приобретает ритуальную плотность и сенсорную многослойность.
Архитектура как распадающаяся конструкция
«Эрос + Убийство»
«Эрос + Убийство», 1969, реж. Ёсисигэ Ёсида
В конце 1960-х годов японское кино переживает момент внутреннего надлома. Наступают студенческие протесты, кризис традиционной семьи, распад прежних моральных координат. Такое положение провоцирует радикальные поиски новых форм изображения. Психика героя становится главным местом действия, а визуальная разобщённость способом её перевода на экран.
Ёсисигэ Ёсида и другие режиссёры японской Новой волны сознательно разрушали традиции «социального реализма» и классической постановки старших мастеров. К концу 1960-х пространство кадра превращается в инструмент субъективности, конфликтности, фрагментации восприятия. Если у Одзу архитектура задаёт порядок, а у Симадзу социальное пространство, то у Ёсида архитектура становится агрессивной, абстрактной, нарушающей ориентацию, театрально-сверхреальной, как форма давления на тело и психику.
«Эрос + Убийство», 1969, реж. Ёсисигэ Ёсида
«Эрос + Убийство», 1969, реж. Ёсисигэ Ёсида
В фильме «Эрос + убийство» белизна кадра перестаёт быть метафорой и становится самим пространством переживания. Пересветы, вымытые контуры, внезапные провалы в белый свет создают ощущение утраты ориентации: страсть и смерть оказываются визуально неотделимы друг от друга. Кадр действует как нервная система: реагирует вспышкой, дрожью, расфокусировкой, будто переживает то же, что и персонажи.
«Эрос + Убийство», 1969, реж. Ёсисигэ Ёсида
Элементы интерьера выступают постоянным барьером между героями. Они разрывают пространство на фрагменты, помещают персонажей в отдельные «ячейки» и визуально подчёркивают их неспособность договориться. Каждый диалог будто проходит через щели и окна, усиливая ощущение недосказанности и внутреннего конфликта. Слова упираются в стены, взгляды не встречаются напрямую. Пространство буквально материализует разрыв.


«Эрос + Убийство», 1969, реж. Ёсисигэ Ёсида
Основным приемом становится также длинный план и смена фокуса внутри него. Ёсисигэ переносит зрительское внимание с одного лица на другое без монтажа, создавая особый тип единого пространства, «в котором устранено измерение времени, т. е. переход между календарными датами является всего лишь преодолением расстояния» (Здемиров, 2011). Крайних форм достигает эксплуатация топологии традиционного японского дома. Коридор-веранда, раздвижные стены, ширмы работают как система прорывов внутри сцены: персонажи могут исчезнуть в любой точке и появиться в другой, а само пространство становится подобно лабиринту, замкнутым, но потенциально бесконечным. Прием достигает кульминации в эпизоде 7 ноября 1916 года в момент смерти Осуги.
В таких пространствах «ничему нельзя доверять — ни речи, ни изображению, ни действию — все это может перекроиться в миг, как путем перестановки перегородок в миг перекраивается пространство традиционного японского дома» (Здемиров, 2011).
«Эрос + Убийство», 1969, реж. Ёсисигэ Ёсида
«Эрос + Убийство», 1969, реж. Ёсисигэ Ёсида
Падение внутренних перегородок, превращающее дом в открытую сцену, отражает распад социальных и семейных структур, разрушение порядка и логики повествования. Персонаж, отрицающий нормы и социальные роли, становится центром хаоса, а его смерть ритуалом разрушения. Кинематографическое пространство наделяется особой гибкостью и театральностью, превращая дом в активного участника драмы.
«Пропавший человек»
«Пропавший человек», 1967, реж. Сёхэй Имамура
«Пропавший человек» Имамуры — фильм-исследование японского общества и медиа того времени, где художественное и документальное переплетаются в одной драме. Имамура реализует один из самых радикальных приёмов подвижной архитектуры в японском кино путем демонтажа интерьера. Пространство чайного домика раскрывает свою кинематографическую конструкцию прямо на глазах зрителя, показывая, что привычные стены, перегородки и интерьер всего лишь спроектированная игра режиссёра, лишенная объективности. В самом кадре вместе с героями появляется и сам Имамура.
Имамура вмешивается в разговор: «Когда вы думаете, что говорите правду, всё кажется вам реальным… Например, это декорации. Ни потолка, ни крыши. Но мы разговаривали так, будто находимся в настоящей комнате. Вам, вероятно, показалось, что это настоящая комната… Внешность может быть обманчива. Это вымысел. Это драма, разыгравшаяся из-за исчезновения Осимы. Это не произошло спонтанно. Всё развивалось по нашему плану… Камера пытается снять вас, и вы это знаете. Завтра здесь разыграется очередная выдуманная кинодрама. Но не обязательно, что вымысел ложь, а невымысел — правда. Это тоже вымысел» (перевод Edwards, 2021).
«Пропавший человек», 1967, реж. Сёхэй Имамура
Сама логика фильма словно поворачивается на 180°, показывает пространство под новым углом, раскрывая «сделанность» реальности и превращая зрителя в активного участника расследования. Здесь режиссёр не остаётся скрытым наблюдателем: его присутствие становится частью действия, а дом динамическая среда, трансформирующаяся по мере развития сюжета.
«Пропавший человек», 1967, реж. Сёхэй Имамура


«Пропавший человек», 1967, реж. Сёхэй Имамура
Благодаря смене оптики и новому углу зрения помещение перестаёт быть привычным декоративным фоном и изображено как чисто кинематографический материал. Стены, перегородки и комнаты обретают гибкость и пластичность, многофункциональность, словно детский конструктор, который можно перестраивать под нужды кадра и нарратива.
Заключение
Японская архитектура с её перегородками, шодзи и коридорами формирует особую кинематографическую логику, где пространство становится не фоном, а активным элементом. У Одзу подвижность скрыта в ритме повседневности, у Симадзу проявляется в бытовой динамике и свободе перемещений, у Мидзогути обретает медитативность и иллюзорность, у Ёсиды превращается в инструмент напряжения и расслоённого поля конфликта, а у Имамуры достигает крайней формы распада, раскрывая свою «сделанность».
Таким образом, эволюция японского кино проходит путь от мягкой текучести пространства к его полной кинематографической трансформации. Жилище становится монтажом, драматургией и способом переживания времени, то есть главным инструментом, через который фильмы переопределяют сам образ движения на экране.
Здемиров Д. Эрос плюс Убийство (Erosu purasu Gyakusatsu) // Cineticle. — 08.02.2011. — URL: https://cineticle.com/erosu-purasu-gyakusatsu/ (дата обращения: 19.11.2025).
Степанова Т. В. Принципы организации пространства в искусстве Дальнего Востока на примере японского кинематографа XX столетия // Известия РГПУ им. А. И. Герцена. — 2008. — № 76-1. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/printsipy-organizatsii-prostranstva-v-iskusstve-dalnego-vostoka-na-primere-yaponskogo-kinematografa-xx-stoletiya (дата обращения: 19.11.2025).
Edwards C. A Man Vanishes, or Chronicle of a Summer meets The Holy Mountain // Medium. — 2023. — URL: https://colinedwards.medium.com/a-man-vanishes-or-chronicle-of-a-summer-meets-the-holy-mountain-42f44b468bec (дата обращения: 19.11.2025).
Thompson K., Bordwell D. Space and Narrative in the Films of Ozu // Screen. — 1976. — Т. 17. — № 2. — С. 41-73.
Taylor, J. J. Ozu’s frames: Form and narrative in Late Spring // Movie: A Journal of Film Criticism. — 38. — URL: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://warwick.ac.uk/fac/arts/scapvc/film/movie/contents/movie_issue9_ozusframes.pdf (дата обращения: 19.11.2025).
Arsenal Berlin. Nippon Modern: Shimazu Yasujiro // Arsenal Berlin. — URL: https://www.arsenal-berlin.de/en/news/nippon-modern-shimazu-yasujiro-1/ (дата обращения: 19.11.2025).
Japan on Film. Our Neighbor, Miss Yae (Tonari no Yae-chan) // URL: https://japanonfilm.wordpress.com/2018/05/14/our-neighbor-miss-yae-tonari-no-yae-chan/ (дата обращения: 19.11.2025).
Sporadic Scintillations. Yasujiro Shimazu: Our Neighbor, Miss Yae // URL: https://sporadicscintillations.blogspot.com/2011/08/yasujiro-shimazu-our-neighbor-miss-yae.html (дата обращения: 19.11.2025).
BFI. The Uncanny in Ugetsu Monogatari // Sight & Sound. — URL: https://www.bfi.org.uk/sight-and-sound/features/essay-uncanny-ugetsu-monogatari (дата обращения: 19.11.2025).
Wood, R. Sexual Politics and Narrative Film: Hollywood and Beyond. — New York: Columbia University Press, 1998.
Родиться-то я родился (1932), реж. Ясудзиро Одзу [Видеозапись] // VK URL: https://vk.com/video-12736321_167572690 (дата обращения: 19.11.2025).
Поздняя весна (1949), реж. Ясудзиро Одзу [Видеозапись] // VK URL: https://m.vk.com/video-39165340_456245043 (дата обращения: 19.11.2025).
Токийская повесть (1953), реж. Ясудзиро Одзу [Видеозапись] // VK URL: https://vkvideo.ru/video-52526415_456247300 (дата обращения: 19.11.2025).
Наша соседка Яэ-тян (1934), реж. Ясудзиро Симадзу [Видеозапись] // VK URL: https://vk.com/video-162821941_456246357 (дата обращения: 19.11.2025).
https://www.film.ru/movies/skazki-tumannoy-luny-posle-dozhdya (дата обращения: 19.11.2025).
Сказки туманной луны после дождя (1953), реж. Кэндзи Мидзогути [Видеозапись] // VK URL: https://m.vk.com/video-52526415_456247253 (дата обращения: 19.11.2025).
https://www.afisha.ru/movie/eros-ubiystvo-227777/ (дата обращения: 19.11.2025).
Эрос + убийство (1969), реж. Ёсисигэ Ёсида [Видеозапись] // VK URL: https://m.vk.com/video31899602_456241365 (дата обращения: 19.11.2025).
Пропавший человек (1967), реж. Сёхэй Имамура [Видеозапись] // VK URL: https://m.vk.com/video-195743087_456239062 (дата обращения: 19.11.2025).



