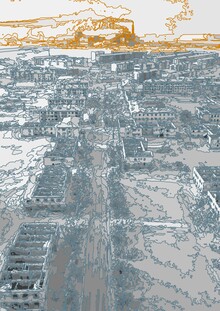Бунтарка или женщина с опорой на себя
Бунтарка или женщина с опорой на себя
К началу XX века складывается запрос на «новую женщину» — публичную, мобильную, экономически и сексуально более независимую, отрицающую традиционные роли и стереотипы. На него повлияла индустриализация и урбанизация: с ними женщина вышла за пределы быта, стала и наемной работницей, и потребительницей. Мировые войны также пошатнули представление о традиционных гендерных ролях, ведь женщинам годами приходилось выживать в тылу без мужчин: работать, выходить в публичную сферу. Разлука с мужчинами повлияла и на ослабление института брака. Этот «социальный запрос» был и остается двойственным. На первый взгляд он предполагает искренность — раз уж женщина дерзит и протестует, значит, она отстаивает себя, ей есть о чем говорить и что защищать. С этой стороны бунт связан с борьбой за равноправие: право голоса, на образование, выбор партнера и так далее. «Бунтарка» легитимировала неугодные ранее качества — независимость, агрессию, творчество, интеллектуальную амбицию, утвердила право на сцену, улицу, университет, прессу. Тем не менее, рынку и государствам нужны были дерзость, энергия и компетентность, рабочая сила только в управляемых формах. Поэтому мало кто был готов вкладывать в запрос глубину, и часто «женский бунт» упрощался до рекламы или фетиша, не зря этот образ так сильно закрепился в рекламе и поп-культуре.
Вот, как о двойственности образа писала Салли Леджер: «Новая женщина» была подчеркнуто «современной» фигурой; но это не означает, что она или её соратницы по женскому движению всегда представляли собой особенно привлекательную модель для феминизма конца XX века. С одной стороны, её считали сексуально трансгрессивной, активно вовлечённой в социалистическую политику и движущей силой перемен; с другой стороны, авторы «Новой женщины» конца XIX века обычно … имели слабое или вообще никакого представления о женском сексуальном влечении … и часто были глубоко погружены в евгенические и другие империалистические дискурсы"[15]. Стоит сказать, что почти все женское искусство 20 века несет в себе бунт, в большей или меньшей степени. Это уже было наиболее ярко отражено в блоке «Непогрешимая муза» — женщина, становясь художницей, автоматически нарушала правила и, тем самым, шла на риск. Поэтому, в «Бунтарке» акцент ставится на том, как художницы изучали свой бунт со стороны, нередко посредством автопортретов.
«Я написала этот автопортрет в шестую годовщину свадьбы» — подпись на картине Паулы Модерзон-Бекер 1906 года. Художница изображает себя обнаженной, ее характерная спокойная поза с приобнимающими живот руками указывает на беременность. Тем не менее, известно, что на момент выполнения работы автор точно не была беременна, и это только усиливает смысл: художница не столько фиксирует биологическое состояние, сколько заявляет право самой формировать свой образ и судьбу — телесную, творческую, семейную. Здесь мотив предполагаемой беременности становится ключом к прочтению картины. Художница изображает ожидание ребенка, как собственный проект. Реальное материнство случится позже, но в картине формулируется право желать, планировать, воображать свое материнство. Важно и то, как картина работает со временем. «Годовщина» — точка на календаре брака — превращается в личный рубеж художественной идентичности; предполагаемая беременность — не отчет о свершившемся, а заявление о готовности и праве на будущее.
«Автопортрет в шестую годовщину свадьбы», Паола Модерзон-Беккер, 1906
Жест «Автопортрета» Марианны Веревкиной усиливается, если учесть исторический контекст. Картина была написана незадолго до возникновения творческого объединения экспрессионистов «Синий всадник» в 1911 году, в котором Веревкина была самостоятельной художницей, теоретиком и организатором, не спутницей мужчины. Художница изображает себя в ценностях объединения: с помощью резких контуров, мощной цветовой оппозиции, она подчеркивает свои характерные черты, при этом отказываясь от канона академического рисунка. Таким образом, после многолетнего самоограничения ради поддержки чужой карьеры она утверждает иной статус: не «спутница» и не «объект», а субъект с собственным визуальным и текстовым манифестом.
«Автопортрет», Марианна Веревкина, 1910
На «Автопортрете» Ромейн Брукс изображена стройная фигура в темном, идеально скроенном пальто и широкополой шляпе, ее взгляд холоден и отстранен, сохраняет дистанцию. На фоне холодное небо и скупая архитектура, в целом палитра сводится к серым оттенкам. Отказ от цвета — значительный жест непокорности. В эпоху, где женское часто определяется через декоративность и «цвет», Брукс выбирает тональную сдержанность. Также, художница переписывает и присваивает «код» маскулинности: на ней строгое пальто, шляпа, перчатки. Все еще опасная для ее времени андрогинная идентичность здесь не объясняется и не оправдывается; она просто становится частью образа художницы, декларируя право женщин воплотить определенный образ мысли и поведения.
«Автопортрет», Ромейн Брукс, 1923
Кроме Ромейн Брукс, образ «новой женщины» развивала и Тамара де Лемпицка, в том числе на автопортрете 1929 года, который еще называют «Тамара в зеленом Bugatti». Художниц можно вновь сопоставить, как это было в блоке «Любовница и супруга». И Брукс, и Лемпицка показывают своих лирических героинь отстраненными, властными и недоступными, однако в первом случае это сочетается со сдержанной андрогинностью, во втором — с опасной сексуальностью. С помощью этой картины можно охарактеризовать ту форму женского бунта, которая была принята обществом наилучшим образом, она стала ответом на многие социальные кризисы 20 века. Не зря автопортрет Тамары де Лемпицка был создан именно по заказу модного журнала в качестве обложки. Его составные элементы, вроде роскошного автомобиля, изящного шарфа и шлема, высеченного, красивого лица художницы составили «мечту» о сильной, пусть и ненастоящей женщине, которая продолжает питать рекламные образы до сих пор.
«Тамара в зеленом Bugatti», Тамара де Лемпицка, 1929
Леонора Кэррингтон на автопортрете 1937 года изображает себя в треугольной композиции: в пустом помещении акцент стоит на ней, открытом окне, в нем видно белого коня, и гиене. Гиена — это особый образ для художницы, значение которого наиболее полно раскрывается в ее рассказе «Дебютантка», по сюжету которого состоятельная девушка договаривается со своей подругой-гиеной, чтобы та подменила ее на балу в ее честь. Для этого гиена переодевается и «натягивает» на себя лицо убитой служанки в качестве маски, но обман все же вскрывается из-за запаха животного, и гиена сбегает. Так Кэррингтон разоблачает неискреннее светское мероприятие, как маскарад, а также формулирует образ «бунтующего внутреннего зверя», игнорирующего навязанное женщинам поведение. Таким образом, жест гиены, протягивающей лапу художнице, сидящей в андрогинном жокейском костюме, во многом позволяет трактовать картину, как упражнения в поиске и отстаивании женственности, декларации суверенитета.
«Автопортрет», Леонора Каррингтон, 1937
К другим сюрреалистам, высказывающихся о женском бунте посредстов символизма животных, можно отнести подругу Кэррингтон, художницу Леонор Фини. На ее раннем автопортрете она предстает гордой молодой женщиной с холодным, контролирующим и испытывающим взглядом. При более детальном рассмотрении на ее элегантном платье обнаруживаются дыры — известно, что художница имела манеру рвать на себе одежду. На картине Фини поднимает левую руку вверх, и под перчаткой на ее запястье виден хвост скорпиона. Этот знак превращает уязвимость, в виде порванной одежды, в эротичесекий доспех или даже оружие, таким образом, картина если не нападает на зрителя, то несет некоторые предостережение или угрозу. Автопортрет отличает вызывающий сексуальный призыв, и художница становится его гордым носителем.
«Автопортрет со скорпионом», Леонор Фини, 1938
Если у Леоноры Кэррингтон животным-символом была гиена, у Леонор Фини им стал сфинкс, смертоносный в греческой мифологии и благосклонный в египетской. На картине «Пастушка сфинкса» перед зрителем предстает драматичный пейзаж сухой пустыни, в центре картины стоит женщина с посохом в окружении многих сфинксов. Здесь Леонор Фини продолжает исследовать сексуальность, как женское оружие и гордость, и для этого подчеркивает амбивалентность этого вопроса. Одежда на героине картины напоминает не то доспех, не то пояс верности, ее посох, с одной стороны похож на оружие, с другой — указывает на усталость или даже хромоту. Сфинкс, гибрид женщины и льва, — это тоже двусмысленный образ, так как он может символизировать и разрушение, и преображение. Фини показывает женскую силу, как сложносоставной феномен, власть переходит в уязвимость и наоборот.
«Пастушка сфинкса», Леонор Фини, 1941
Начало 20 века характеризуется более мягким входом в тему: художницы анализирует себя, как бунтарок, свое проявление и художественные ценности, развивают бунтовской имидж. Позже провокационность отделяется от фигуры художницы и становится частью стороннего высказывания. Художницы, словно определив и защитив «переворот» в себе, начинают расширять границы нового бунта.
Художница Элейн де Кунинг в интервью искусствоведу Энн Гибсон сказала: «(В прошлом) женщины рисовали женщин: Луиза Элизабет Виже-Лебрен, Мэри Кассат и так далее. И я подумала, что мужчины всегда рисовали противоположный пол, а я хочу рисовать мужчин как сексуальные объекты». В самом деле, в ее практике мотив мужской сексуальности подчеркнут, он тонко встраивается в сюжет картин, сохраняя узнаваемость портретируемых. Ее мужские портреты — последовательный бунт, декларирующий контролирующий взгляд женщины-художницы.
«Фэрфилд Портер», Элейн де Кунинг, 1954
«Гарольд Розенберг», Элейн де Кунинг, 1956
Бунт, как противостояние с миром мужчин, возник и в искусстве Полин Боти. Художница занималась поп-артом в Великобритании, а значит, должна была соперничать с художниками-мужчинами и критиками за место в индустрии и признание. С учетом этого более полно раскрывается ее диптих «Мужской мир». Коллажная живопись, вдохновленная журнальными и газетными вырезками, собрала многие узнаваемые образы и мотивы. На «мужской» части: Эйнштейн, Ленин, Элвис Пресли и прочие, они находятся в окружении города, на «женской» — неконкретные девушки из журналов с легкой эротикой посреди природного пейзажа. Диптих критикует соблазнительный язык поп-культуры, то, как он сочетает в себе авторитет и дегуманизирующую зрелищность с яркой, желанной картинкой. Выходит сатира на патриархальное господство: мужчины, все, отродясь, гении, женщины — упрощенный и обезличенный объект желания. Тем не менее, тон Боти остается амбивалентным, художница признает истинную привлекательность этих поп-образов.
«Этот мужской мир I и II», Полин Боти, 1965
«Три вертикальные панели» — триптих с навязчиво масштабными изображениями шурупов, которые в практике Джуди Бернстайн выступают как гротескный фаллический символ. Резкие угольные штрихи, плотные растушевки и «грязная» граффитная поверхность отсылают к индустриализации и придают работе мрачно-агрессивный тон. Серийность трех панелей превращает фаллический образ в лозунг-плакат, разоблачающий его как клише власти и, соответственно, высмеивающий. В этом жесте присвоения и гиперболы проявляется женский бунт: художница не избегает непристойности, а делает ее инструментом критики.“Три вертикальные панели» — триптих с навязчиво масштабными изображениями шурупов, которые в практике Джуди Бернстайн выступают как гротескный фаллический символ. Резкие угольные штрихи, плотные растушевки и «грязная» граффитная поверхность отсылают к индустриализации и придают работе мрачно-агрессивный тон. Серийность трех панелей превращает фаллический образ в лозунг-плакат, разоблачающий его как клише власти и, соответственно, высмеивающий. В этом жесте присвоения и гиперболы проявляется женский бунт: художница не избегает непристойности, а делает ее инструментом критики.
«Три вертикальные панели», Джуди Бернстайн, 1977
Защитив право на бунтарское поведение в искусстве, художницы усложнили задачу. Теперь бунт в женском искусстве использовался в том числе и для того, чтобы показывать женщин «сложными’, устроенными куда хитрее, чем в комплексе „Дева Мария — Лилит“. На картине „Женщина-собака“ Паулы Рего изображена женщина на четвереньках, ее поза напряжена, рот широко открыт, глаза закатились. Двойственность ее положения — между покорностью и нападением, как у собаки — считывается как отказ от упрощения женщин и утверждение права на сложные, „неприличные“ аффекты. Бунт картины заключается в представлении отказа быть приручённой, принятие животных желаний и ярости.
«Женщина-собака», Паула Рего, 1994
Во второй половине двадцатого века очень уверенную позицию занимают провокационные образы, связанные с сексуальностью. Часто они выстраиваются таким образом, чтобы вызвать в зрителе сильнейшие эмоции, связанные со стыдом, страхом, отвращением, и, таким образом, закрепить высказывание. Этот прием возникает в искусстве Николь Эйзенман, в том числе на картине «Алиса в стране чудес». Нас ней карикатурно изображена Чудо-женщина, персонаж комиксов DC, в ее влагалище целиком входит голова Алисы. Предлагаются разные прочтения изображения, самое удачное из них по мнению автора — так раскрывается кризис взросления, девочки оказываются обмануты поп-культурными образами взрослых героинь. Как и Паула Рего, Эйзенман исследует границы дозволенного. Крах мифа об «идеальной женщине» служит метафорой женского бунта, нежелания оставаться скромной, вежливой и читабельной в рамках патриархальных нарративов.
«Алиса в стране чудес», Николь Айзенман, 1996